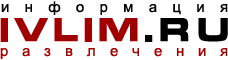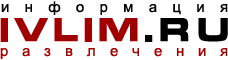FoxЖурнал: Леонид Багмут: история и литература:

ЖИЗНЬ И СУДЬБА КАЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО

Автор: Леонид Багмут
 Царь Иван Васильевич объявил себя наследником выморочного имущества Потрясателя Вселенной и наложил на Россию вериги тяжкие: кусок немалый, но долгами обременён сверх меры. Сундуков в подвале много – да всё пустые. В крайнем случае – с костями далёких предков. Пространствам нет предела – но кто их сосчитает? Земля необозримая – но вся пустая. А заимодавцы говорят – пора платить: взялся за гуж – не говори, что не дюж. И почему-то лукаво улыбаются.
Говорила, говорила Сестрица Алёнушка Братцу Иванушке: не пей из лужи – козлёночком станешь. Пока Алёнушка опекала непоседливого и пытливого мальчика – тот ещё слушался, хотя и норовил поскакать на одной ножке по болоту. Но вот сестрица отвернулась по своим девичьим делам – а её питомец уже припал к ближайшей канаве. А потом удивился несказанно: почему растут рога и копыта, да голосок рано ломаться начал?
Заплакали сироты горемычные – только каждый о своём. Плачет Иванушка, почёсывая рога и сосну. Плачет Алёнушка: кто её, бесприданницу, замуж возьмёт с козлом?
Мудрая сказка, но кто её читал после десяти лет? Устами младенца глаголет истина, пока он не пачкает пелёнки. А потом ему не до философии: сестрица Алёнушка попросит козлёночка оставить свою точку зрения при себе – причём в самых твёрдых выражениях.
Сказка небольшая, но взрослому человеку очевидно: тернистая предстоит дорога у козлёночка и его доброй родственницы. Не жизнь их ждёт, а мытарства. Невесть сколько времени колесили они по Тёмному Лесу: сестрица успела бы стать бабушкой, а Иванушка вырос бы в роскошного козла с обаятельной бородой. Но в эпосе этого нет, иначе некоторые дети не поймут, а у остальных руки опустятся с младенчества.
У кого только не побывали страдальцы: и Мышка Норушка советовала, как одним зёрнышком всю зиму кормиться. И Старичёк Боровичёк пытался дорогу разъяснить, но не преуспел: в глазах всё троилось и напоминало о давно прошедшей молодости. Побывали они и у Бабы Яги, которая хотела Алёнушку, пока ещё в теле, продать хорошим людям, а козлёночка запечь в тесте. Да Гуси-Лебеди пролетали мимо в тёплые края – и оказалось, что по дороге. А в Тёплых Краях Змей Горыныч всё делал Алёнушке недвусмысленные предложения известного свойства, подмигивая всеми шестью глазами. Но выручил Иванушка Дурачёк, который кому хочешь зубы заговорит.
Когда было голодно – Лисичка Сестричка научила кур воровать не краснея. А Алёнушка потом ещё из них перины делала. Сиротствовали горемыки, пока Серый Волк – Зубами Щёлк, проходя мимо, не дал дельный совет: не столько блеять, сколько бодаться.
Царь Иван был очень набожен: с детских лет понял, что не у кого ему искать защиты, кроме как у Бога. Посредников не жаловал. Пока был молод – слушался ближних батюшек, но со временем стал жить своим умом. С Богом у него установились сугубо личные отношения, но мистиком он не стал – помешала излишняя интеллектуальность. Говорят, на печати Чингиз-хана было написано: «Бог на небе – каган на земле, повелитель всех людей». Великий воитель в свои первые годы тоже усердно слушал своих шаманов – тем более, что среди них были люди очень неглупые и влиятельные. Пока он собирал земли татарские в один кулак – служители неба были независимы. А потом их посадили на поводок и велели стучать в бубен по уставу.
Религиозность царя приобретает фантастические формы, когда он теряет почву под ногами. О чем дальше шли годы, тем более он был одинок в борьбе за абсолютную власть. Отец его Василий 3-й боялся бояр: мода на своё мнение, бытовавшая в 15-м веке, ещё не отошла. Сказывают, что на официальных приёмах сын Софьи Палеолог отводил послов в уголок, если хотел сказать им что-то важное. А бояре стояли, вытянув уши, словно трубы иерихонские. Первый среди равных – на большее великие князья не замахивались.
Царь вся Руси стал отрывать головы за дерзкие слова, когда исчерпал все разумные доводы. Он долго говорит окружению о своей миссии, санкционированной самим Спасителем – но оппоненты в глаза смеялись. Толковал о наведении элементарного порядка в стране великой. Но ему отвечали: порядок ведь не порча – зачем его наводить? Он и сам придёт, когда наступит его время.
Годы и годы шли споры, какой быть власти царя: Рюрика или Батыя? Плели заговоры и писали доносы, а государь снимал головы сильным и возвышал слабых духом. Время изменилось и сказка приобрела более приземлённый характер: Сестрица Алёнушка давно пошла по рукам а козлёночек явно заматерел – любые намёки на свой натуральный запах воспринимал как государственную измену и люто бил копытами, когда не мог забодать.
Склонность к религиозным экстазам, за редким исключением – одна из форм истерии. Не будем слишком суровы к царю Иоанну: святой не становится садистом потому, что не властен над миром. Пустынник истязает сам себя, но дайте ему государство, и он наденет вериги на весь народ – для его же пользы. Сам будет питаться призраком благодати и заставит поститься всех, до кого дотянется. Власть духа над телом абсолютна, она равна власти Бога над человеком. Никакие рациональные доводы не помогут, если душа просится в рай.
Царь – заместитель Бога на земле: его воля священна и есть источник всякого закона во человецех. А поклонение ему есть высшее проявление гражданского долга. Иначе не устроить Россию, не быть её великой, не закружат ей голову новые сказки.
Дабы расчистить дорогу в светлое завтра, Иван Васильевич усердно молится, закусив губы. Укрепившись сердцем – становится Грозным: массовые казни собирают множество зрителей. Вид чужых страданий поднимает мелкого человека в своих глазах до уровня палача. Помазанник не скупится на кровь: народ причащается к духу государственности. Единение царя с народам – не пустые слова, если веско сказаны.
Царь каялся много раз и совершенно искренне: объявлял амнистию, возвращал ссыльных, награждал обиженных и бил поклоны перед мощами святых. Только не долго. Люди, тесною толпой стоящие у трона, демонстрировали самые низменные грани человеческой природы. Иван Васильевич, человек с тонкой и ранимой психикой, исключительно образованный и талантливый, был по существу первым русским интеллигентом. А такие люди вечно раскачиваются между добром и злом, адом и раем, топором палача и скитом отшельника.
Что движет раскаянием царя? Проще сказать – государственные интересы, лицемерие. Желание оставить в памяти потомков образ правителя, к сердцу которого можно достучаться. Склонённого перед Богом так же, как люди перед ним. Скорее всего, в царских рыданиях был элемент позёрства и самолюбования. Но это не главное: мелкий человек способен только казаться великим, да его претензии дальше пера Жар – Птицы не идут. А Иван Васильевич всё же гораздо более был, чем казался. Когда его охватывал дух зверя, он меньше всего думал о том, как он выглядит. Оправдаться перед людьми легко: смерть для сильных, государственный интерес для умных и воля царя для прочих – достаточное обоснование для любых деяний. Но перед Богом слова тщетны: неспокойная совесть – признак гнева Его.
Чёрная волна отчаяния периодически застилает глаза – и царь как слепой, выставляя вперёд руки, бежит в храм. У православного только одна жизнь на земле и на небе нет чистилища – ошибок делать нельзя, ибо сразу попадёшь в ад. Конечно, Господь милостив, Каина до сих пор не простил. В тревоге от пьяного угара бежала за царём вся братия его личного монастыря – гвардия, одетая в рясы: рубаки, висельники, изгои. О чём они думали, глядя на своего господина? Боюсь, что ничего хорошего: натужно крестясь с перепою и сна, молча презирали за душевную слабость, ибо плачущий всегда виноват.
Одиночество – во всём и везде. Нескончаемый поиск человеческой привязанности и проявления доверия к разным людям. Очередное узнавание, что любят власть, а не её носителя. Выслушивание ежедневных доносов – и понемногу зреет очередная истерика. Уставший от всеобщего лицемерия, он просто ждёт повода для пыток и казней. Лишь после гекатомбы жертв обретал душевное равновесие. Ситуацию несколько смягчали женщины. Кроме семи жён у царя Ивана было до 1500 наложниц, которых он делил с ближайшим кругом. В любовных утехах царь был очень демократичен – за что и поплатился сифилисом. В итоге последние годы Россию возглавлял человек, борющийся с прогрессивным параличем – что усугубляло ситуацию.
В целом Иван Васильевич Грозный был человеком Высокого возрождения в полном объёме. В нём бушевали поистине Шекспировские страсти, его ум поднимался до озарений, его литературный талант неоспорим, его реформы потрясли Россию. Но Россия – слишком дикая и суровая отчизна: её почва и воздух так деформирует личность, что историки только руками разводят: такой материал пропал! Иван Грозный заблудился между скатом и короной. Как маятник: то кается – то рубит головы. Изменялась только амплитуда и частота движения. Он не стал сумасшедшим в старости, как не был палачём в юности. Боярство он лишил достоинства и чести, крестьян сделал холопами, войну проиграл, но остался великим.
Все его благие начинания неизменно шли прахом. Татары сожгли Москву: повторив набег Тохтамыша почти через два века, Девлет-Гирей увёл всех оставшихся в живых москвичей в Крым: долго ещё потом «акали» и «окали» невольничьи базары у самого синего моря. Такая своеобразная зачистка территории позволяет сказать, что именно Иван Васильевич является основателем современной Москвы, ибо после него город сжигали, но не обезлюживали.
Народ русский не унывал – и в этом его прелесть. Царь после сердечного сокрушения начал розыск виновных. Оказалось, что провалилось великое начинание царя – опричнина. Она замышлялась как инструмент очищения земли русской от всего плохого – как своеобразный орден меченосцев, карающий зло. Но опричники проявили трусость и разбежались с поля брани, оставив столицу без защиты. Через год после катастрофы было на что посмотреть на Москве: празднуя новоселье, свежеиспеченные москвичи угощались муками бывших опричников, изменивших делу государеву.
Упоение массовыми казнями плохих людей в 16-м веке не есть эксклюзивное русское явление: это примета Высокого Возрождения. Великие гуманисты разрушили уже отжившие общественные институты и утвердили новые общечеловеческие ценности. Но гибель корпоративного средневекового общества пришлась не по вкусу человекам, его составлявшим. Простые люди хотели вернуть старые, добрые времена, и уговорить их не бунтовать было невозможно: неграмотная масса ещё не недоступна для демагогии. Приходилось применять крутые меры, дабы общество не рассыпалось в песок. Массовые репрессии выполняли двоякую роль. С одной стороны, они приводили в чувство обывателя, а с другой – заменяли театр.
Популярность «танца смерти» необычайно велика в Европе 16-го века. Его пляшут все, кто хочет и не хочет, ибо настало время больших перемен. Видения апокалипсиса терзают души многих художников: картины Дюрера, Босха и Брейгеля Старшего наполнены виселицами, которые не пустуют, горящими городами и скелетами, которые обнимают ещё живых. Дух Последнего Дня виден даже на полотнах, изображающих праздник: люди торопятся схватить ещё кусочек жизни. Европа дала трещину: католики и протестанты резали друг дружку и попутно сжигали красивых девушек в твёрдой уверенности, что это ведьмы. Турки захватили Балканы, Россия подняла штандарт Чингиз-хана. Благо ещё, что руки у неё тряслись и никто не заметил, что полотно побито молью – а починить так и не собрались.
Когда Иван Грозный короновался – умер Генрих 8-й английский – любитель сладких девушек и вкусно поесть. Когда собрался в поход на Ревель – Генриху 2-му французскому проткнули копьём горло на рыцарском турнире. Когда Грозный кончал опричников, в Париже праздновали Варфоломеевскую ночь. Галантные французы ещё долго потом развлекались, разоряя своих крестьян. Опричники царя делали то же самое, но с большим размахом и без всякого джентельменства. Герои Александра Дюма уже тогда любили королев и предпочитали смерть предательству. Хотя и они при всей их прямолинейности понимали, что честь, достоинство и верность – это ценности умирающего средневековья. Герои опричнины были людьми более продвинутыми при всей их дремучей косолапости: они жили страхом, как надеждой. Дыба и топор были в постоянном употреблении: никто не ждал завтрашнего дня.
Сам Иван Грозный умер легко и приятно: мартовским днём 1584 года ещё не старый муж 53-х лет отроду после обеда сел играть в шахматы. Был весел и балагурил на вечные темы – как вдруг схватился за сердце и упал прямо на шахматный столик. Видимо, обширный инфаркт закончил жизнь этого последнего героя Возрождения.
При оценке его личности и деяний историки, как правило, не очень спорят и не сильно ругают: все помнят, что именно он создал Царство Московское из больших и малых татарских улусов. Он – конец Московской Руси и начало России. Он – зеркало и лицо народа русского – тот самый колодец, в который не стоит плевать. Эксцессы его правления очевидны, но все оправдываются и покрываются идеей величия нации. Последние Рюриковичи не устояли перед искушением взять то, что плохо лежит и поплатились 20 годами внешне бессмысленного террора. Не будь Казани, Астрахани и Сибири – не было бы Грозного монаха-садиста. Но тогда и величие родины пришлось бы считать не в квадратных километрах. Ничто не даётся даром – а подарки стоят в конечном итоге дороже всего.
Сказание и молва однозначно обеляет царя Ивана: на сцене народного театра живёт и будет жить правитель строгий и суровый – но справедливый. Он – судья мудрый и непредвзятый, любящий, как Владимир Красное Солнышко, публично вершить суд и расправу над плохими людьми.
Перед его грозными очами добрый молодец бьётся с опричником за честь свою. Царь милостив: тут же велит снять голову победителю, но одновременно дарит семье его такие торговые и налоговые льготы, что все родные с радостью провожают кормильца в последний путь. Народ, как всегда, сморит в корень: ему не ведом боярский страх – не на него точат топоры и колья. И смертью злой его не запугаешь: люди мёрли как трава под морозом и царские забавы здесь – капля в море житейском.
Леонид Багмут
Начало:
Возвращение Кащея Бессмертного
уже опубликовано:
- Быдлократия как общественный институт
- Сказка о грибнике и грибах
- Геном русской сказки
- Новая легенда об Аскольде и Дире да племяннике их Рюрике
- В поисках утраченных корней
- Русь - начало всех начал
- Кого обидели варяги
- Личное дело легендарного человека
- Три смерти князя Игоря
- Обвинение и оправдание Святослава Игоревича
- Последний гордый варяг
- Яга на марше
- Трудно только первые сто лет
- Власть женского рода
- Выбор невесты
- Поминая старые обиды
- Время Ярослава Мудрого
- Золотая осень древнего Киева
- Второстепенные герои древнерусского мифа
- Вечная юность народа
- Конец истории
- Молодой народ подобен степному пожару
- Личность Змея Горыныча
- Время и люди Чингизхана
- Бросок степной гадюки
- Киевская Русь: подводя последние итоги
- Историческая миссия Змея Горыныча
- Последний Рюрикович
- Власть идеи
- Избирательность исторической памяти
- Прелести кирпичной кладки
- Этика далёких потомков
- Посмертная маска нашей истории
- Русская матрица
- Сказка о Женщине
- Смена этнической доминанты
- Народ обретает новое имя: пёс становится собакой/a>
- Затянувшиеся роды
- Лебединая песня Кощея Бессмертного
- Дурак не скоро поумнеет
- Многочисленные соблазны
- Сказка о мужчинах и женщинах
- Россия молодая: проблема выбора пути
- Культурный горизонт Московской Руси
Сказки о времени
- История как миф и сказка
- Девичья память - лицо истории
- Будни истории и сказочный праздник
- Должность: внештатный пророк в своём Отечестве
- Магия нашего прошлого
- Диалектика Я и Мы в истории народа
- Мифология романтизма как основа современного мировосприятия
- Конец света - не за горами
- Лукавые мудрствования
- Возвращение средних веков
- Мифология справедливости
- Летние сны
- Городское одиночество
- Разорванность человеческого существования
- Я прошу у судьбы немного
- Иллюзия самодостаточности
- Сказка о времени
- Сказка о власти: пасторальный мотив
- Какое наше время
- Романтика независимости
- Взгляд на вещи
Сталин – намэ
- Сказка о Московском халифате
- Сказание о халифе Сталине Великом
- История как орфографическая ошибка
- Великий отечественный джихад
Отец Илларион
- Первый писатель и первое Слово
- Вторая судьба первого писателя
- Третья жизнь первого писателя
Первая русская сказка
- Повесть о Петре и Февронии
- Юмор забытых предков
- Призвание на царство
- Русская Золушка
Дракула
- Дракула – титан эпохи Возрождения
- Дракула – выдающийся дипломат позднего средневековья
- Дракула – наш современник
Кащей Бессмертный
- Возвращение Кащея Бессмертного
(: 0)
Дата публикации: 12.06.2007 9:48:42
[Другие статьи раздела "Леонид Багмут: история и литература"] [Свежий номер] [Архив] [Форум]
|