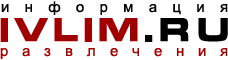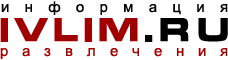FoxЖурнал: Леонид Багмут: история и литература:

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО

Автор: Леонид Багмут
 Народ как трава: чем чаще его
косить – тем гуще растёт
восточная мудрость
Это только кажется, что Ивану Царевичу легко было смутить татарского владыку: на самом деле переживаний было более чем достаточно. Хоть и слаб был покойник, а старые страхи нет-нет, да и сожмут сердце. Всё-таки 240 лет русский улус был неотъемлемой частью Орды. Было время привыкнуть к Хозяину, а был он строг и немилостив – в случае недоразумений шкуру спускал без сомнений. Синдром Поротой Задницы очень живуч, потому что нагляден для десяти поколений русских людей. Более того: он стал частью народного духа.
Но как иначе можно было держать власть на территории от Карпат до Енисея? Никакие договоры не помогут – только страх цементировал такое государство. Слишком разнородны были его провинции, слишком сильны амбиции местных властителей и только ужас поголовного истребления делал потенциальных бунтовщиков лояльными подданными. Хотя это скорее всего не так: люди прошлого относились к смерти без истерики.
Умер Хозяин и осиротели его данники. Кто станет наследником Орды? Куда потянут лошади истории свои оглобли? Что касается крымского хана, то он присягнул турецкому султану и решил для себя проблему надолго. Имея за спиной Османов, Гиреи могли кормиться далеко за пределами Дикого поля. Улус Московского великого князя, казанского и астраханского ханов пребывали в задумчивости: на три поколения в регионе установилось равновесие сил.
Тихо было в России начала 16-го века: особо не воевали, беспрерывно шли вялые пограничные столкновения – то ли сил не было, то ли не хотелось. Видимо, Москва никак не могла освоиться с новым статусом: всё решать самой и за всё отвечать лично, не прячась за спину Старшего Брата. Незаметно отошёл Иван 3-й, его сменил Василий тоже 3-й – сын Софьи Палеолог. Матримониальные вопросы решать трудно – они не раз устраивали землетрясение на самой плодородной почве. Всё, кажется, идёт хорошо – но тут достойному правителю седина серебрит бороду и бес толкает ребро – и ещё чёртики прыгают в глазах.
Не ко времени умерла любимая жена Ивана 3-го – тверская княжна и взалкал он добавить византийской крови в свой род. А всякая змея имеет свой хвост: если сказал «а», то надо говорить «б» в положенный срок – а то укусит. От тверской княжны остался сын – всем пригожий юноша. Сам князь и бояре не могли нарадоваться, глядя на наследника. Говорят, был он строен и румян, на себе имел кольчугу, перевязан был от ран и любую знал науку. Миф наделяет его всеми достоинствами – видимо для того, чтобы историкам было чего локти кусать. Но Господь призвал его к себе, потому что византийская принцесса очень хотела видеть своего сына великим князем. И какая мать этого не хочет?
Василий Иванович 3-й никакими достоинствами не блистал, разве что критики совершенно не переносил. Хотя кто её любит? У него начались нелады в семейной жизни: жена из рода Сабуровых то ли надоела, то ли сына никак не приносила. Тогда муж отправил её в монастырь и взял замуж юную Глинскую. Сказывали знающие люди, что девочка не опростоволосилась:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверушку…»
Новорождённого по традиции нарекли Иваном. Батюшка так обрадовался, что через три года умер – говорят, что от старости. Дальше начались сказки Пушкина: осиротевшую маму и ребёнка посадили в бочку и бросили в волны морские. Фигурально выражаясь, Иван Васильевич рос в обстановке откровенной смуты, заговоров, диких склок боярских и отвратительной мышиной возни с утра до вечера. Тихий отрок очень рано узнал всю номенклатуру человеческих слабостей.
Много было желающих надеть шапку Мономаха – но то ли вдовая княгиня была хитрее хитрого, то ли бочка достаточно круглая, то ли волны гасили друг друга – Иван Царевич вопреки всем ожиданиям дожил до совершеннолетия. Но из достославной бочки вылез человек настолько несладкий, что очень многие сразу узнали в нём героя давно умершей легенды. В отличие от сказочного настоящий князь Гвидон - это Кащей Бессмертный.
Знамения эпохи видны современникам иначе, чем далёким потомкам. История скупо отмечает: в 1547 году великий князь московский Иван Васильевич был коронован в Успенском соборе Кремля как царь всея Руси. Миф это событие вообще не помнит: ведь не сгорела же Москва в тот день до тла? И не зарезали много людей, и не рубили по случаю праздничка лишние головы на Красной площади? Просто шла многочасовая служба, которую мальчик 17 лет, весьма астенического сложения, с трудом выдерживал. Обычная рутина – не на чём глазу остановиться.
Но современники знали: решается судьба России на много веков вперёд. Нет ничего страшнее вечного проклятия – ибо кто его снимет? Раз наложенное, оно тянет за собою хвост событий, имя которым – безнадёжность. Царь на Руси не просто слово, а символ абсолютной, непререкаемой власти над миром. Триста лет этот титул принадлежал хозяину Великой Татарии. Московский князь открыто провозгласил себя наследником империи Бату-хана. Крутится колесо истории: кто бы мог подумать в 1247 году, что столица государства переместится из прикаспийских степей на пепелище деревеньки под никому не известным названием Москва? А править страной будет русский князь – татарские ханы станут драться за место у его трона.
Но это ещё не всё: знатоки генеалогии утверждают, что Иван 4-й был правнуком хана Мамая, а через него – потомком Чингиз – хана. Великий воитель завещал хранить собранные им земли – от Тихого океана и дальше не запад, до самого последнего моря. Кроме того, первый царь был потомком византийских императоров – через невест князей Владимира великого, Владимира Мономаха и собственной бабушки. Как потомок Рюрика он мог считать своими земли Северной Европы. Так три линии сошлись в одну точку: наследник Рюрика, Палеолога и Чингиз-хана мог рассматривать себя как владыку вселенной. Соответственно, в разряд исконно-русских земель теперь попадало всё, до чего могли дотянуться жадные руки и увидеть алчные глаза.
Иван 4-й настойчиво восстанавливал владения своих предков. Вначале малой кровью, могучим ударом покорились громадные просторы Казанского и Астраханского ханств. Удача вскружила голову: царь двинул свою орду на запад, против едва живого ливонского ордена. Но первые же успехи в борьбе с захиревшими рыцарями настолько встревожили Литву и Польшу, что они решили окончательно объединиться и дать бой царю Ивану по всей форме. Получив афронт на западе, государь московский утешился на востоке: присоединил Сибирское ханство. Известный поход Ермака Тимофеевича, воспетый мифом – классическая конкиста, а он сам – Кортес и Писарро в одном лице.
В целом за время правления своего первого царя Россия расширилась до пределов Золотой Орды времён Батыя с некоторыми купюрами на Востоке и на Западе. Успех зримый: даже по карте видно, что территория государства выросла более чем в два раза за тридцать лет. Национальный миф таких вещей не забывает никогда и в этом суть оценки правления Ивана Грозного. Там где историки, всегда глядящие узко и мелочно, говорят «нет», там сказание, всегда глядящее широко и обобщённо, говорит «да».
Известно также, что вход в тюрьму стоит рубль, а выход – два. Да ещё не всё-то золото, что блестит. И судьба Каштанки поучительна: бойкий мальчик с удовольствием издевался над доверчивой собачкой, отравляя собственную душу. Так и Диавол искушал совсем юный русский народ призраком власти и величия. Захват трёх татарских ханств – дело пустяковое: истинно шапками закидали. Под Казанью ещё гремели пушки, но Сибирь взяла ватага гулящих людей, снаряженных на средства Строгановского торгового дома. Хвастать было совсем нечем: ни подвигов, ни славы, ни геройских битв не было: созревшие плоды сыпались в мешок сами. И вряд ли кто-то подозревал, что собирая в него бесконечные пространства улуса Джучи-хана, наши предки оживляли тех, кому лучше не просыпаться. Всё новые и новые данники истово били челом русскому царю, а дух Кащея Бессмертного рос и уплотнялся. Легендарное завещание Чингиз-хана снова приобретало реальность людских сердцах.
Русский этнос, вернувшийся к политическому бытию после трёх веков убожества, заявил миру о себе единственно возможным способом – войной. Обычный в таких случаях взрыв внешней экспансии был незаметным по двум причинам. Во-первых, территориальные приобретения на востоке никого не трогали: Сибирь для Европы и Китая тогда была не на много ближе Луны. Во-вторых, большая часть сил народа была поглощена гражданской войной. Образ Чингиз-хана завоевал сердца и души – по России прошла гигантская волна внутренней варваризации.
Вначале был просто Иван Васильевич – и только со временем он стал Грозным. Мальчик появился на свет слабым и все боялись, что он не жилец на этом свете. Однако обошлось: матушка его сумела выходить. Однако её через 7 лет отравили добрые люди и защищать ребёнка было некому. Злые люди думали – Господь милостив, приберёт сорванца как-нибудь сам, без нашей помощи. Однако у Вседержителя насчёт мальчика были свои планы. И если бы юный Иванушка знал их, то никогда не стал бы Грозным. Монастырей в России много – выбирай, Иван-царевич, любую по душе. И случилось бы так, то вошёл бы он в историю тихо и благостно, как свет церковной лампадки. Историю пришлось бы переписывать заново, историки молча прошли бы мимо, авторы исторических романов – тоже, а народ и вовсе бы обеспамятел: людская память бережно хранит только моменты громадного выброса энергии.
Если верно говорится, что пути Господни неисповедимы, то может быть, тут история давала «вилку»: недаром же Ивана 4-го пытались к власти не допустить и упорно хотели от неё отстранить вместе с потомством. В возрасте 20 лет царь оказался присмерти и бояре настойчиво пытались навязать ему в качестве наследника двоюродного брата. Вилка не состоялась, даже если была: проснувшийся народ подобен вулкану и паводку – то земля трясётся и мысли разбегаются, то вода мутная топит мир и в ней ничего не увидишь при всём желании. Не то, чтобы сил стало больше у народа – просто он согласен гораздо больше вытерпеть. Было бы знамя – а люди сами соберутся. Идти могут, но куда – не знают: тут нужен поводырь с большой буквы – Апостол. Человек, наделенный божьей благодатью так очевидно, что ни у кого из живущих не поднимется рука бросить в него камень. Что бы он ни делал – всё к лучшему, каждое его слово – правда, а личность его – священна. Давно не стало пророков в своём отечестве и не хватает святых на каждое время, но трудно без них жить. Царь – именно та фигура, что имеет в глазах народа похожие черты.
Боярин же – антипод царя и личность его и в истории, и в народном сказании как правило отрицательна. Историки приписывают им косность мышления, неповоротливость и тугодумство, измену государственным интересам. Другими словами, это люди опытные и ответственные, обременённые землёй и холопами, не любящие принимать решения сгоряча, считающие государственное дело своим собственным и проявляющие личную независимость при всякой возможности.
Народная мудрость трактует боярина как дурака и изменника, а лучшем случае – как безвредного вора и дармоеда. Трогательное единство трезвых учёных мужей и Вещих Боянов наводит на мысль: вышли мы все из народа, дети семьи трудовой… Холопы не любят свободных: даже намёк на чью-то личную независимость вызывает у них глубоко внутренний протест. То, что средний боярин был битком набит пороками своего времени, не вызывает сомнений – так же как и то, то он был единственным носителем культуры. Верхушка нации всегда претендует на известную самостоятельность. И на привилегии, которые стоят поперёк горла людям мелким и подлым.
Народ – как трава: чем чаще её косить, тем гуще растёт. Деревья развиваются медленно, а плоды дают не скоро и не всегда. Вырубить сад легко, но под молодой порослью можно будет собирать только грибы да старые жёлуди. Грибы не обязательно съедобны, а жёлуди любят только свиньи. Потому хороший Садовник не будет торопить события.
Боярин – человек традиционных взглядов. Он давно сыт и не рвёт соседу глотку из-за пустяков. Он отвечает за многих и многих, а потому не склонен к резким движениям. Ему есть что терять, и он не поддержит авантюру. Он богат во многих поколениях, а потому не станет изматывать своих рабов непосильной работой. Он уважает самого себя, а потому может спокойно выслушать чужое мнение, оценить шутку и поддержать талант.
В периоды величия народа бурьян рвётся к небу, закрывая солнце. Неслыханная сила идёт от земли – надо только знать, куда её направить. Знание – сила, если совпадает с возможностями, а без них – только душевные муки. Нечего выбирать – всё уже давно выбрано. Хватаются за голову и дают оценки всегда потом – когда уже поздно.
Опыт Чингиз-хана показал: дееспособное государство невероятных размеров должно напоминать воинское формирование. Не родовая знать с её вольницей, а жёсткая иерархия холопов государевых удерживает его от распада на мелкие улусы.
Леонид Багмут
Уже опубликовано:
- Быдлократия как общественный институт
- Сказка о грибнике и грибах
- Геном русской сказки
- Новая легенда об Аскольде и Дире да племяннике их Рюрике
- В поисках утраченных корней
- Русь - начало всех начал
- Кого обидели варяги
- Личное дело легендарного человека
- Три смерти князя Игоря
- Обвинение и оправдание Святослава Игоревича
- Последний гордый варяг
- Яга на марше
- Трудно только первые сто лет
- Власть женского рода
- Выбор невесты
- Поминая старые обиды
- Время Ярослава Мудрого
- Золотая осень древнего Киева
- Второстепенные герои древнерусского мифа
- Вечная юность народа
- Конец истории
- Молодой народ подобен степному пожару
- Личность Змея Горыныча
- Время и люди Чингизхана
- Бросок степной гадюки
- Киевская Русь: подводя последние итоги
- Историческая миссия Змея Горыныча
- Последний Рюрикович
- Власть идеи
- Избирательность исторической памяти
- Прелести кирпичной кладки
- Этика далёких потомков
- Посмертная маска нашей истории
- Русская матрица
- Сказка о Женщине
- Смена этнической доминанты
- Народ обретает новое имя: пёс становится собакой/a>
- Затянувшиеся роды
- Лебединая песня Кощея Бессмертного
- Дурак не скоро поумнеет
- Многочисленные соблазны
- Сказка о мужчинах и женщинах
- Россия молодая: проблема выбора пути
- Культурный горизонт Московской Руси
Сказки о времени
- История как миф и сказка
- Девичья память - лицо истории
- Будни истории и сказочный праздник
- Должность: внештатный пророк в своём Отечестве
- Магия нашего прошлого
- Диалектика Я и Мы в истории народа
- Мифология романтизма как основа современного мировосприятия
- Конец света - не за горами
- Лукавые мудрствования
- Возвращение средних веков
- Мифология справедливости
- Летние сны
- Городское одиночество
- Разорванность человеческого существования
- Я прошу у судьбы немного
- Иллюзия самодостаточности
- Сказка о времени
- Сказка о власти: пасторальный мотив
- Какое наше время
- Романтика независимости
- Взгляд на вещи
Сталин – намэ
- Сказка о Московском халифате
- Сказание о халифе Сталине Великом
- История как орфографическая ошибка
- Великий отечественный джихад
Отец Илларион
- Первый писатель и первое Слово
- Вторая судьба первого писателя
- Третья жизнь первого писателя
Первая русская сказка
- Повесть о Петре и Февронии
- Юмор забытых предков
- Призвание на царство
- Русская Золушка
Дракула
- Дракула – титан эпохи Возрождения
- Дракула – выдающийся дипломат позднего средневековья
- Дракула – наш современник
(: 0)
Дата публикации: 03.06.2007 8:53:08
[Другие статьи раздела "Леонид Багмут: история и литература"] [Свежий номер] [Архив] [Форум]
|