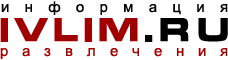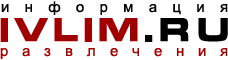FoxЖурнал: Анатолий Максимов:

ТАК БЫЛО… 23 СТРАТОСФЕРА

Автор: Анатолий Максимов
 Моя командировка в Вену совпала с Международным съездом коммунистической молодежи, который проходил в этом городе, но никакого отношения к нему не имела.
Я остановился в небольшой опрятной гостинице, директор которой мне объяснил, что каждая страна, в которой есть коммунистическая партия, прислала свою делегацию на этот съезд. Исключение составили США – они прислали две делегации. Одна – от коммунистической партии, а другая – от ассоциации христианской молодежи!
На следующий день местная газета сообщила, что Оргкомитет на закрытом пленарном заседании постановил, что на Международном съезде коммунистической молодежи для «христианской молодежи» нет места: она должна покинуть съезд! Когда решение совещания было объявлено, делегация американской компартии заявила, что Америка – страна демократическая и что присутствие двух американских делегаций, которые представляют американскую молодежь в целом, – явление совершенно нормальное!
Начался спор, который был вынесен из зала заседаний на улицу. В спор ввязались греческие коммунисты, которые заявили, что американцы поступают, как настоящие демократы, и что решение Оргкомитета – проявление диктатуры! К протестующим присоединила свой голос местная газета, которая известила своих читателей о возникшем конфликте.
Оргкомитету пришлось объявить, что вынесенное решение является всего лишь пожеланием и что создавшееся положение будет рассмотрено «потом»!
Днем проводились спортивные соревнования между делегациями, а по вечерам организовывались семинары для руководителей. Те же, кто не принимал участие в семинарах, собирались, с наступлением ночи, небольшими группами в кафе или в скверах, чтобы не быть на виду, и обменивались своими наблюдениями и предложениями по поводу тех или иных волнующих их вопросов и проблем.
Когда встречались группы из разных стран, то споры принимали более воинственный характер, особенно при встречах с советскими делегатами. Особое место в таких поединках занимали споры западных немцев со своими соотечественниками – восточными немцами. Первые старались убедить свои оппонентов в том, что человек умирает духовно, если он лишен свободы, лишен личной инициативы! На это восточные немцы отвечали, что они не индивидуалисты, что они живут и трудятся коллективом и для коллектива!
В Вену, на съезд коммунистической молодежи, приехали эмигранты, антикоммунисты разных национальностей, в том числе и русские – члены НТС (Национально-трудового союза), которые старались завязать разговоры с советской молодежью и передать ей свою политическую программу будущего строя в России.
Покойный Алеша, сын Председателя НТС, который многократно старался меня завербовать в Союз, рассказывал мне, что советской разведке удалось-таки заманить руководство НТС в лес под предлогом серьезного обсуждения будущего России и что в самый последний момент коварный замысел советской разведки удалось разгадать и дать драпу. «Иначе мы бы исчезли, как исчезли генералы Кутепов, Миллер, Скоблин и многие- многие другие», добавил Алеша.
До Первой мировой войны Вена была местом развлечений венгерской и австрийской аристократии. Неотъемлемой частью Вены является крупнейший аттракционный парк на острове Пратер, находящийся между основным руслом Дуная и его рукавом – «дунайским каналом».
В центре города – в зданиях в стиле барокко – сосредоточены банковские и торговые предприятия. Там же стоит и Собор св. Стефана. А вне города находятся дворцы – Шёнбрунн, Шёнборн, Бельведер – конца 17-го и начала 18-го веков.
Те, которым приходилось бывать в Вене, наверное, заметили, что в этом городе очень много сквериков, в которых находятся бюсты композиторов и литераторов, и что в Вене нет памятников, посвященных своим погибшим героям, как бывает во многих других странах. Однако, в самом центре города находится громоздкий, сомнительной эстетики памятник… советским воинам.
Наблюдательный турист не мог не заметить, что восточная часть города славится просторными кафе, в которых подают «турецкий» кофе, стакан холодной воды и «свежую» газету, вложенную в плетеную раму. В таких кафе можно сидеть хоть до позднего вечера. Время от времени официант уносит недопитую воду и приносит другой стакан: вода должна быть все время свежей!
Особое место около Вены занимал аэропорт. Отсюда вылетали самолеты во все страны «восточного блока». Здесь же был и банк, который скупал и продавал, совершенно открыто, «валюту» стран соцблока, курс которой не имел ничего общего с официальным курсом в банках этих государств!
Кроме банка было еще одно достопримечательное место – мужская уборная. «Изюминка» достопримечательности заключалась в том, что при подходе к определенной зоне срабатывала электронная система и включала шумные потоки воды. Обычно люди останавливались и отступали на шаг-другой, чувствуя за собой какую-то вину. Простояв в недоумении несколько секунд, они вновь пытались достичь цели, но электроника опять вступала в действие, и люди уходили в недоумении. Такими «жертвами прогресса» становились, как правило, выходцы из социалистических стран!
По субботам, под вечер, в Вену слетались сотрудники западных фирм из разных социалистических стран. В большинстве случаев люди были знакомы друг с другом. В ожидании рейса «домой» выпивали пиво у стойки и делились последними новостями и впечатлениями от пребывания в той или иной стране.
В Вене, недалеко от центра, проживала моя одноклассница Оля, вышедшая замуж за немца, хозяина небольшого ресторана. Я ее не видел со школьной скамьи. Мы встретились. Ожидаемой с моей стороны особой радости по поводу встречи не произошло – зато мы были нежно вежливыми, взахлеб рассказывая друг другу о прожитой жизни, прошедшей между школьной скамьей и текущим днем.
Оля жила в просторном двухэтажном доме и имела прислугу. Было обеденное время, и она пригласила меня к столу. Подошел ее муж. За столом мы обменивались светскими любезностями. Оля, узнав, перед моим уходом, что я остановился в восточной части города, сказала, что там есть небольшой, но очень опрятный и сравнительно недорогой ресторан «Стратосфера».
На следующий день, нас было трое, мы пошли по указанному Олей адресу. Дом, в котором находился этот ресторан, был необычной архитектуры. Сходившиеся в этом месте улицы под острым углом заставили архитектора пойти на хитрости и изобразить, в его верхней части, нос корабля, а внизу – обрезать острый угол и встроить дверь в ресторан. Второй этаж дома, немного отступив от угла, с окном посередине, создавал впечатление капитанского мостика, под которым висела вывеска «СТРАТОСФЕРА». Мне показалось, что для «корабля» такая вывеска не очень подходила, но…
… две ступеньки вниз – и перед нами ряд столиков, накрытых розоватой скатертью с затейливо сложенными салфетками.
Мы прошли вглубь и сели за столик около колонны. Подошла официантка и раздала меню: «Выбирайте, пожалуйста».
Я заметил, что пока мы расшифровывали меню, почти все столики оказались занятыми. За соседним столиком я услышал русскую речь, но не обратил внимания на разговаривающих: мало ли кто мог оказаться в Вене в эти дни. Дама сидела ко мне спиной, а мужчина, грузный на вид и совершенно лысый, сидел напротив меня.
Мы заказали наши блюда и, в ожидании их, обменивались шепотом о впечатлениях этого дня. К соседнему столику подошел официант и начал что-то объяснять. Мне показалось, что наши соседи находятся в затруднении. Я подошел к их столику и предложил помочь разобраться с официантом.
– Спасибо, мы здешние, – сказал мужчина.
Я замер. Мне этот сиплый голос был так хорошо знаком! Кто же этот господин? Я напряженно искал. Наконец нашел!
– Сережа! – вырвалось из моей груди.
Господин пристально посмотрел на меня и сказал:
– Да, я Сережа, а ты Толя?
Я не ответил – мы крепко обнялись!
Такая неожиданная встреча!
Мы сблизили наши столики, и, как бывает в таких случаях, посыпались вопросы за вопросами, но все они оставались без ответа.
Сережа Гамбурцев, как и я, был воспитанником Софийской Русской Гимназии, но старше меня года на три-четыре. Он мне рассказал, что был в Русском Корпусе и принимал участие в боях против 3-й армии Украинского фронта, которой командовал маршал Толбухин. В строю, рядом с ним, находился его сверстник Вилли Андерсен, который был убит, во время очередной атаки, осколком шрапнели. Сережа взял личные документы друга, но не успел их передать начальству: он попал в окружение и был взят в плен. Он выбросил свои документы и предъявил документы своего друга. Сережу зачислили как немецкого солдата. В плену он просидел восемь мучительных лет.
– Иногда, – говорил Сережа, – я подумывал о концлагерях и задавал себе такой вопрос: разве может так быть, чтобы в концлагерях было хуже, чем у нас, военнопленных?! Толя, пойми меня, восемь лет ежедневной борьбы с драками «между своими», чтобы выжить! Это – триста шестьдесят дней в году ежечасного напряжения! Меня назначили бригадиром, мы работали на стройках, на деревокомбинате, разгружали вагоны – одним словом, куда пошлют. Управление лагерями требовало выполнения норм. А местное начальство задавало свои, завышенные, нормы. Невыполнение их строго каралось: рацион и без того уже скудного питания урезывался до крайности. Должен сказать, что «крайность» – это в советском понимании, а в нашем – это смерть, которая оправдывалась тем, что немец не человек, а фашист! За смерть фашиста никто не отвечал. Зато увеличивалась физическая нагрузка на каждого из нас.
– Как у тебя со здоровьем, Сережа?
– Не пытай, – ответил Сережа, – бывает хуже, но редко!
Сережа познакомил меня с хозяином ресторана Драго Велич, которому на вид было лет сорок. Его открытое лицо и приятные манеры мне пришлись по душе.
После нашей неожиданной встречи прошло несколько дней. Мне позвонил Сережа и спросил: «Ты когда вылетаешь»?
– В субботу. А в чем дело?
– Дело в том, что Драго нас приглашает в субботу на ужин. Ну, вылетишь в воскресенье, какая для тебя разница, в какой день вылетать.
Я согласился вылететь в воскресенье.
Драго нас встретил и указал на большой квадратный стол, накрытый светло-бежевой скатертью с вышитыми стебельками и листиками зеленого цвета.
– Здесь нам будет спокойно, прошу к столу, – сказал Драго и, обращаясь ко мне, добавил: – Спасибо, что ты остался.
Тарелки с очищенной селедкой с тонко нарезанным сладким луком и глиняная миска с горячей, дымящейся картошкой дополняли убранство стола, посередине которого, в серебряном ведре со льдом, стояла бутылка водки.
– Желаю вам бодрости и здоровья! – сказал Драго, разливая водку.
Мы дружно выпили и закусили селедкой со сладким луком и горячей картошкой.
– Драго, – сказал Сережа, – ты знаешь, что моя бодрость, за которую я сполна заплатил здоровьем, спасла меня от смерти в плену. Теперь у меня каждый миг на учете. Спасибо тебе за этот ужин!
Нам подали крестьянский суп – «чорбу».
– Знаешь, Толя, – сказал Сережа, – мы сидим в ресторане с большим историческим прошлым. Даже больше, чем историческим, – с конспиративным прошлым! Думаю, что Драго согласится нам рассказать поподробней эту историю.
Нам подали жаркое.
–Я согласен, – сказал Драго, – только это длинная история.
– А нам торопиться некуда, – заметил Сережа.
– Расскажу, но ты меня не перебивай.
– Итак, – начал Драго, – дед мне рассказывал, что в прошлом Босния и Герцеговина были самостоятельными княжествами. Потом они очутились под турецким игом! Тяжелые условия существования вызывали постоянное недовольство населения, напоминающее бурление в кратере вулкана. Наконец, произошел взрыв – Герцеговинское восстание, последствия которого обсуждались на Берлинском конгрессе. Решение этого конгресса свелось к тому, что верховная власть в Боснии и Герцеговине осталась за турецким султаном, а администрация этих земель была передана Австро-Венгрии. После тридцатилетней «администрации» Босния и Герцеговина были аннексированы Австро-Венгрией без возражений со стороны других государств.
После небольшой паузы Драго продолжил:
– Враждебное отношение населения к оккупантам нашло поддержку в офицерской среде, которая относилась с симпатией к тайной патриотической организации «Черная рука», беспощадно боровшейся с угнетателями.
Драго снова на минутку умолк. Разлил водку, положил себе на тарелку жаркое и предложил следовать его примеру.
– От деда я узнал, – продолжал Драго, – что «Черная рука» купила на его имя этот ресторан, а там, в глубине, находится небольшое помещение для тайных встреч членов этой организации. В этом помещении было несколько столиков. На каждом из них был коврик и колода карт. Когда бывала проверка документов, а это случалось часто, то нельзя было придраться к посетителям ресторана, играющим в карты! Я также узнал, что «Черная рука» была жестокой и беспощадной к изменникам отечества, сотрудничающим с администрацией Австро-Венгерской империи. Она выносила беспощадный приговор – нож поперек горла или пуля в затылок!
Спустя некоторое время, «Черная рука» прикупила и этот дом, но уже на имя моего отца. После Первой мировой войны «Черная рука» прекратила свое существование, а я, по наследству, оказался полномочным владельцем и дома, и ресторана.
– Отец мне рассказывал, – продолжал Драго, – что «Черная рука» в июне 1903 года ворвалась в королевский дворец и зверски убила короля Александра Обреновича и его жену, королеву Драгу. Вслед за этим «Черная рука» провозгласила Петра Карагеоргиевичи королем, а престолонаследником – его сына Александра, полагая, что новый король будет покорным орудием в их руках. Однако престолонаследник наотрез отклонил всякое вмешательство в управление страной. Тогда «Черная рука» постановила устранить Карагеоргиевичей, как она устранила Обреновичей. В сентябре 1916 года было совершено покушение на престолонаследника, но цель его не была достигнута. Один из участников был пойман, и следствие выяснило, что это было дело «Черной руки». Апис (священный бык у древних египтян), верховный руководитель этой организации, и двое из его ближайших сотрудников были приговорены к расстрелу. Следствие полностью раскрыло эту тайную организацию. Оказалось, что она насчитывала больше ста тысяч членов, преимущественно офицеров и высших государственных чиновников. Оно также выяснило, что убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, в июне 1914 года в Сараево, было подготовлено Димитриевичем, членом организации «Черная рука», совместно с русским разведчиком Артамоновым!
– На этом я ставлю точку, – заключил Драго.
– Спасибо Драго! – сказал я. – Я впервые услышал от тебя о существовании тайной организации «Черная рука». Таким образом, ты заполнил мои пробелы по истории этого края. Предлагаю выпить за хозяина дома.
Мы дружно выпили, посидели еще какое-то время, поговорили на житейские темы и разошлись.
От Драго я узнал, что иногда, в заднем помещении, в котором когда-то «играли в карты», бывают встречи с бывшим священником – попом Любомиром. Он мне рассказал, что Любомир закончил несколько классов церковно-приходской школы. Когда ему исполнилось десять лет, он ее покинул и начал помогать своим родителям – пас овец. Семья Любомира была набожной, честно выстаивала все воскресные и двунадесятые службы и, дважды в год перед Рождеством и перед Пасхой, исповедовалась и причащалась. Любомир очень любил слушать проповеди и часто бывал в гостях у местного священника. Однажды Любомир объявил своим родителям, что хочет стать священником.
– Так, видимо, Богу угодно, – заключили родители.
Любомир был рукоположен в сан священника и после смерти старенького настоятеля сельской церкви был назначен на его место. Таким образом, поп Любомир оказался, после Первой мировой войны, настоятелем небольшой сельской церкви.
Прихожане полюбили попа Любомира: он, будучи почти без образования, обладал особым даром слова. Умел подойти к людям, умел найти с ними общий язык, был отзывчивым на страдания паствы и называл вещи своими словами. Паства говорила, что он был добрым, любимым и честным пастырем.
В одной из воскресных проповедей поп Любомир сказал, что его душу смутило одно место из священного писания, где говорится, что «Иисус Христос отдал свою жизнь для спасения рода человеческого, и что придет время, когда мертвые воскреснут и войдут в царство небесное».
За то, что священное писание «смутило душу» попа Любомира, иерархия обвинила его в ереси и лишила сана, с запретом бывать «в его» сельской церкви! Впредь он должен был быть просто Любомиром, как светский, но паства продолжала его называть «поп Любомир» и обращалась к нему за советами.
С тех пор, как поп Любомир «оказался на улице», прошло несколько лет. Он осунулся, постарел. Но язык его остался прежний.
Меня заинтересовала личность этого человека, и я спросил у Драго, когда придет сюда поп Любомир.
– Не знаю, – ответил он, – может быть, завтра, а может быть, и через месяц.
В воскресенье я попрощался с Сережей, пригласив в Париж его и Жоржа Бутова, тоже выпускника нашей гимназии, которого я не видел уже несколько лет. Они приехали на несколько дней, осмотрели достопримечательности столицы, побывали в Версальском дворце и уехали. Через год Жорж мне сообщил, что с Сережей очень плохо и что, по мнению врачей, надежды никакой и конечный исход может произойти в любой момент! На следующий день я был в Вене, но Сережу не застал!
На похоронах нас было немного. Мы совершили обряд отпевания над другом и похоронили его на небольшом участке сербского кладбища. Я предложил Кларе, подруге Сережи, и Жоржу пойти в «Стратосферу» – к памятному месту, где я совершенно неожиданно встретил Сережу. Драго выразил свои соболезнования Кларе, а нам крепко пожал руки и поставил на стол бутылку сливовицы – «чтобы помянуть друга, как это делается у нас»!
Драго мне сказал, что поп Любомир был на прошлой неделе и что он, по всей вероятности, будет завтра.
На следующий день я познакомился с попом Любомиром, который произвел на меня впечатление человека сердечного и уравновешенного. Подошел Драго.
– Что пьете?
– Мне, как обычно, – сказал поп Любомир.
–А именно? – переспросил Драго.
– Стакан белого вина.
– Мне тоже стакан белого, но сладкого вина, – сказал я.
Драго принес распечатанные бутылки сухого и сладкого вина – «Токай»!
– Лучше «Токай» вы не найдете. Дед мне оставил винный погреб – только «Токай». Некоторые парижские рестораны выписывают мой «Токай»! – сказал Драго и прищелкнул языком, как это делают на греческом или на турецком рынке.
Мы чокнулись, выпили по глотку, отставили стаканы. Поп Любомир достал кожаную кису с табаком, взял листик бумаги и начал крутить сигарету.
– Хотите? – спросил он.
– Да, спасибо, – ответил я.
Мы закурили, посмотрели друг на друга. Мне показалось, что поп Любомир меня «взвешивает», что он готов к разговору, но что его надо немного подтолкнуть. Я дал соответствующий толчок, и поп Любомир «ухватился за него обеими руками».
– Вам, наверное, Драго поведал мою биографию, – начал поп Любомир. – Драго человек прямой, честный: рассказывает то, что знает, в догадки и в смутные предположения он не пускается. Да, действительно, я больше не поп, меня расстригли. Но люди продолжают меня именовать попом, и я от этого не отказываюсь, так как это признание того, что я, в разумении людей, остался тем, кем я был всю мою жизнь, – целителем и защитником душ человеческих. Приход был небольшой, но все равно люди болеют, люди умирают, люди рождаются, люди вдовеют. Требы я совершал медленно, ясно, не торопясь, чтобы смысл сказанного мной доходил до сердца каждого.
– Я не понимаю, – продолжал взволновано поп Любомир, – за что меня лишили сана. При жизни люди зарабатывают свой хлеб тяжелым трудом, горюют, а радости почти не знают. Этим людям нужна божественная помощь при их жизни, а не посмертный рай! А убитых на войне – их тоже воскресят для рая?! Может ли церковь мне объяснить, для чего этот рай нужен всемилостивому, всепрощающему и всезнающему Богу?!
– Смотрите, как оно получается: над каждым верующим, будь он католик, православный или магометанин, два авторитета. Первый – это церковная иерархия, второй – Господь Бог (или Аллах). Иерархия вырабатывает каноны и догмы. Она выдает себя за правомочного посланника Бога на земле, за посредника между людьми и Богом и указывает нам, смертным, как мы должны себя вести и что мы должны делать, чтобы быть угодными Богу. Получается, что, если я угоден иерархии, то я угоден и Господу Богу. Если же я ей неугоден, то я неугоден и Ему! Какая ересь! Видите, как это получается: мы – и вы, и я – люди обыкновенные. У меня, например, есть сестра – она работает учительницей в соседнем городке. В этом городке есть маленький банк, в котором сестра держит свои скромные сбережения. В городке все знают мою сестру и меня тоже знают. Иду я, например, в банк и прошу выдать мне маленькую сумму со счета, скажем, моей сестры. Меня спрашивают: «У вас есть соответствующее полномочие»? «Нет, говорю, полномочия нет». «Без полномочия мы вам ничего выдать не можем»!
Получается, что банк есть, что счет в банке есть и что сестра у меня есть, а денег мне так запросто не выдают! В таком случае, сестра мне может написать полномочие. А от кого и каким полномочием располагает иерархия?! Я верю, что Господь Бог существует. Поэтому, если человек верует, вопрос о том, есть ли Бог или Его нет, отпадает! Смотрите, как иерархия нам представляет «своего бога»: он создал мир, он создал человека по своему образу и подобию, он всемогущ, всемилостив и т.д., и т.п. Иными словами – он Абсолют! Параллельно с этим она утверждает, что на нас лежит клеймо первородного греха, который мы должны искупить! Помилуйте, если всемогущий и всезнающий Бог сотворил мир и создал человека по своему образу и подобию, то Он не мог не знать, что Он делал! Он не мог не знать, как поступит Его творение в жизни! Как же, в таком случае, Он может карать человека? За что?
– Нет, – продолжал поп Любомир, – Бог не на небесах – мой Бог во мне, в моей душе! Мой Бог – это любовь к ближнему! Мне не надо штампованного бога, одинакового для всех!
Поп Любомир был глубоко взволнован. Он остановился, отпил глоток вина и посмотрел на меня настойчивым, пытливым взглядом, как будто спрашивал: – «Вы меня понимаете»?
– Я человек неграмотный, – продолжал поп Любомир, – и живу сердцем среди людей, далеких от богословской философии. Эти люди хотят знать, как им жить среди им подобных. Они видят, что иерархи говорят одно, а делают другое. Вот о чем я говорю! Вы меня понимаете?
Я кивнул головой в знак согласия.
Поп Любомир откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул,
Мы выкурили еще по сигарете и допили вино. Я поблагодарил попа Любомира за беседу и вернулся в гостиницу.
Через год после смерти Сережи и беседы с попом Любомиром я прибыл в Вену по работе и зашел в «Стратосферу». Внешне все было по-старому – без видимых перемен.
Драго мне сказал, что через месяц после моего отъезда поп Любомир простудился и скоропостижно скончался и что Жоржа давно не видел. Его соседи сказали, что он уехал в Мюнхен – это все, что мне известно. Мы выпили по рюмке сливовицы «за упокой души» попа Любомира, закусили малосольным огурцом домашнего производства и распрощались.
Я зашел к Оле. Ресторан оказался закрытым. Соседка, с которой Оля дружила, мне сказала, что муж Оли скончался полгода тому назад от злокачественной язвы в желудке, что Оля продала дом и вернулась в Софию.
От такого количества неприятных новостей мне стало не по себе: будто придавило от такого количества новостей. С этого момента Вена стала для меня таким же городом-столицей, как и все остальные. Изредка я все ж таки заглядывал в ресторан, но, после смерти попа Любомира, Драго, оставаясь, как прежде, внимательным и вежливым, сделался более сдержанным в разговорах. Казалось, что он тяжело пережил смерть попа Любомира.
Мой последний визит в «Стратосферу» оказался неудачным: на дверях висело объявление: «Ресторан закрыт по семейным обстоятельствам». Я взглянул на окна второго этажа, который занимала семья Драго, и увидел белое пятно на стене – там, где висела вывеска «Стратосфера»!
Что случилось? Объяснение «по семейным причинам» ничего не объясняет – это лишь общепринятая формула. Что же произошло на самом деле, осталось для меня тайной и загадкой.
Время от времени я вспоминаю мою встречу с попом Любомиром, которая произвела на меня сильное впечатление своим четким и ясным определением своего мировоззрения, «своей философии», оказавшейся «несозвучной» с требованиями иерархии!
Мир в его понимании – это вселенная; мир во вселенной – это тишина, согласие; мир в его жизни – это церковный приход, паства.
Мне имя Любомир, как и он сам, пришлись по душе!
Надеюсь, и вам…
Мир праху твоему, неискушенный пастырь поп Любомир!
* *
Анатолий Максимов
Продолжение следует.
Уже опубликовано:
- Краткая биография
- Стихи разных лет
- Завет отца
- Зеленый Лист
- Ноябрьские события во Франции
- Правильно, но неверно!
Так было повесть
Книга первая
- Часть первая
- Часть первая, продолжение 1
- Часть первая продолжение 2
- Часть первая окончание
- Часть вторая
- Часть третья
- Часть третья, продолжение 1
- Часть третья, продолжение 2
- Часть четвертая
Книга вторая
- Часть первая Франция начало
- Часть первая - продолжение 1
- Часть вторая - продолжение 2
- Часть вторая - продолжение 3
- Часть вторая - продолжение 4
- Часть вторая - продолжение 5
- Часть вторая - продолжение 6
- Часть вторая - продолжение 7
- Часть вторая - продолжение 8
- Часть вторая - продолжение 9
- Часть вторая - продолжение 10
- Часть вторая - продолжение 11
- Два рта
- Вакцина Фридмана
- Электродвигатели
- Книжный магазин
- Эр Ликид
- Маркет
- «Волга»
- Липецк
- Встреча была короткой
- Дружественная беседа
- Что дальше?
(: 0)
Дата публикации: 04.02.2007 9:54:48
[Другие статьи раздела "Анатолий Максимов"] [Свежий номер] [Архив] [Форум]
|